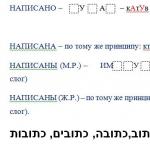Сакральное и профанное. Определение религии через дихотомию «сакральное-профанное
Как знать, возможно, это неизбежный процесс обусловленный прогрессом цивилизации, или нравственное обнищание?
Отношение сакрального и профанного - это две «взаимодополнительные среды»: в одной можно действовать без тревоги и трепета, в другой порывы сдерживаются чувством глубокой зависимости. Эти два мира - мир сакрального и мир профанного - могут быть определены лишь один через другой. Они взаимно исключают и взаимно предполагают друг друга.
Роже Кайуа полагает, что «сакральное предстает как категория чувствительности. На самом деле это категория, на которой зиждется религиозное поведение, которая придает ему специфический характер, которая внушает верующему особенное чувство почтительности, предохраняет его веру от критического рассмотрения, делает ее чем-то, не подлежащим обсуждению, ставит ее вне и по ту сторону рассудка». По сути, единственное, что можно уверенно сказать о сакральном вообще, содержится в самом определении этого термина: сакральное - это то, что противостоит профанному. Почти всегда профанное отмечено лишь негативными чертами, заслуживает лишь презрения, все время нуждаясь в сакральном, жадно стремится завладеть им, а тем самым рискует его испортить или само быть уничтоженным. Оттого их взаимоотношения должны строго регламентироваться.
Своего рода оппозиция сакральное/профанное в социально-гуманитарных науках становится своего рода аналогом оппозиции сознание/бессознательное в психоанализе. Контекст общей теории мифа, одинаково актуальнен и для исследователей феноменов психики и сознания, и для историков и антропологов, изучающих социальные процессы. Поднятая в те же годы психоанализом проблема бессознательного возбудила интерес обществоведов к исследованию предпосылок сакрального как особой области «коллективного бессознательного». Через отношение «профанного» и «сакрального» рассматривали и отношение «природы» и «культуры».
Согласна с мнением, что наш мир бинарный
состоящий из мира сакрального и мира профанного, как воображение / опыт. Эти миры и соединены, и разделены одновременно, как сон и явь.
Профанный мир, стремящийся к сакральному - это стремление к усовершенствованию, может даже к совершенству недостижимому и вдохновляющему, и для общества, и для человека.
В мире сакральном отсутствуют:
·
время как таковое, оно заменено вечностью;
·
пространство, может быть везде и нигде;
·
там есть покой и нет движения.
В мире профанного все эти категории присутствуют: время, пространство, движение, суета. Это обыденная жизнь большинства людей.
Некоторые исследователи вопроса отношения сакральное / профанное, полагают, что категории времени и пространства может рассматриваться как категории нравственные.
Всякий раз, однако, когда мы пытаемся очертить границы понятия сакрального, мы сталкиваемся с трудностями как теоретическими, так и практическими. Ибо раньше, чем пытаться определить феномен религиозного, необходимо обсудить факты религиозного, прежде всего и по преимуществу те факты, что являют себя «в чистом виде» - те, иначе говоря, которые «просты» и, возможно, более близки к своему источнику. К несчастью, такого рода фактов мы не находим нигде - ни в обществах, историю которых мы знаем, ни у «примитивных» народов, не охваченных современной цивилизацией. Практически везде мы сталкиваемся со сложными религиозными явлениями, предполагающими длительную историческую эволюцию. Далее, значительные практические трудности встают и на пути сбора эмпирического материала. Тому есть две причины: 1) даже если удовлетвориться изучением одной религии, жизни одного человека едва ли хватит, чтобы завершить исследование; 2) если же поставить своей целью сравнительное исследование религий, то для этого будет недостаточно и нескольких жизней. Между тем, нас-то интересует как раз сравнительное исследование, ибо только оно дает возможность проследить как меняющуюся морфологию сакрального, так и его историческое развитие. Предпринимая такое исследование, мы поэтому вынуждены выбрать лишь некоторые религии из тех, которые зафиксированы историей или открыты этнологией, и к тому же лишь отдельные аспекты или этапы эволюции этих религий. Этот выбор, даже если ограничить его наиболее типичными проявлениями, отнюдь не прост. В самом деле, для того чтобы очертить границы сакрального и дать ему определение, мы должны располагать достаточным количеством проявлений сакрального, «сакральных фактов». Разнообразие этих «сакральных фактов», будучи с самого начала источником затруднений, постепенно становится парализующим. Ведь речь идет о ритуалах, мифах, божественных образах, священных и почитаемых предметах, символах, космологиях, теологуменах, людях, получивших посвящение, животных и растениях, священных местах и многом другом. Притом каждая из этих категорий имеет свою, богатую и разнообразную морфологию. Мы, таким образом, оказываемся перед лицом необычайно обширного и разнородного фактического материала, в котором меланезийский космогонический миф или брахманистское жертвоприношение имеют не больше прав на внимание исследователя, чем мистические тексты святой Терезы или Нитирэна, австралийский тотем, примитивный ритуал инициации, символика храма Боробудур, ритуальное одеяние и пляска сибирского шамана, повсеместно встречающиеся священные камни, сельскохозяйственные обряды, мифы и ритуалы, связанные с культом Великой Богини, интронизация монарха в архаических обществах или суеверия, связанные с драгоценными камнями, и т.д. и т.п. Каждый из этих фактов может рассматриваться как иерофания1 в той мере, в какой он присущим ему образом выражает некоторую модальность сакрального и некоторый момент его истории, иначе сказать, одну из бесчисленных разновидностей пережитого или переживаемого человеком опыта сакрального. Каждый из них драгоценен для нас, будучи источником двоякого знания: как иерофания, он раскрывает нам некоторую модальность сакрального; как историческое событие, он выявляет одну из ситуаций, в которые ставит человека его приобщение к сакральному. Вот, к примеру, ведический текст, обращенный к умершему: «Ползи к Матери-Земле! Да спасет она тебя из небытия!»1 2 Этот текст открывает нам структуру теллурической сакральности: Земля рассматривается как мать, Tellus Mater. Но в то же время он показывает определенный момент в истории индийских религий, момент, когда эта Tellus Mater обрела качество - в сознании, по крайней мере, некоторой группы людей - защитницы от уничтожения, качество, которое позднее было утрачено под влиянием реформы, связанной с Упанишадами и проповедями Будды3. Возвращаясь к тому, с чего мы начали, следует сказать, что все категории фактов (мифы, ритуалы, божества, суеверия и т.д.) равно значимы для нас, если мы хотим понимать феномен религиозного. А такое понимание всегда осуществляется в связи с историей в силу того простого обстоятельства, что всякий раз, когда мы имеем дело с иерофани- ей, мы имеем дело с историческим фактом. Сакральное являет себя нам всегда в определенной исторической ситуации. Мистический опыт, даже самый интимный и трансцендентный, испытывает влияние обстоятельств своего времени. Еврейские пророки многим обязаны тем конкретным историческим событиям, которые служили оправданием и подтверждением их проповеди, равно как и всей религиозной истории Израиля, позволившей им выразить свой опыт в слове. В качестве исторического феномена - не в качестве личного опыта - нигилизм и онтологизм некоторых мистиков, принадлежавших традиции Махаяны, был бы невозможен без умозрения Упанишад, без эволюции санскрита и т.д. Мы вовсе не хотим этим сказать, что всякая иерофания или всякий религиозный опыт представляет собой уникальный, не допускающий повторения момент духовной истории. Величайшие духовные события подобны друг другу не только содержанием, но часто и формой выражения. Рудольф Отто обнаружил поразительные моменты сходства в словаре и формулировках между Мейстером Экхартом4 и Шанкарой5. Тот факт, что иерофания всегда исторична (т.е. что она всегда имеет место в определенных обстоятельствах), не исключает для нее возможности быть универсальной. Некоторые иерофании имеют локальное значение, но существуют и такие, которые имеют или приобретают универсальную значимость. Индийцы, к примеру, поклоняются дереву, именуемому Ашваттха;7 манифестация сакрального в этом именно виде растения действительна для них одних, ибо для них одних Ашваттха есть иерофания, а не просто дерево. Следовательно, эта иерофания носит не только исторический (что свойственно всякой иерофании), но и локальный характер. Между тем индийцам известен также и символ Космического дерева (Axis Mundi - ось Мира), а эта мифосимволическая иерофания является универсальной, так как Космические деревья встречаются во всех древних цивилизациях. Следует уточнить, что Ашваттха почитается в той мере, в какой это дерево воплощает в себе сакральность непрерывно возрождающейся Вселенной; иначе говоря, оно служит объектом поклонения постольку, поскольку воплощает в себе или символизирует Вселенную, представляемую Космическими деревьями всех мифологий (ср. § 99). Но при том, что символическое значение Ашваттхи таково же, что и у Космического дерева, данная иерофания, претворяющая растительный вид в сакральное дерево, не действительна ни для кого, кроме членов индийского общества. Можно привести еще один пример - на этот раз пример иерофании, оставшейся в прошлом народа, в среде которого она имела место. Семиты на одном из этапов своей истории поклонялись божественной супружеской паре - Богу бури и плодородия (fecondite) Баалу и Богине плодородия (fertilite), особенно аграрного плодородия, Белит. Еврейские пророки считали эти культы святотатственными. С их точки зрения - т. е. с точки зрения семитов, которые в результате Моисеевых реформ пришли к более возвышенным, более чистым и более цельным представлениям о божестве, - эта критика была вполне справедливой. И все же древнесемитский культ Баала и Белит - это тоже иерофания; в нем раскрываются - пусть в гротескно преувеличенных, чудовищных формах - сакральный характер органической жизни, стихийные силы крови, сексуальности и плодородия. Это Откровение сохраняло свое значение если не тысячелетиями, то, по крайней мере, в течение многих столетий. Оно продолжало восприниматься в качестве иерофании до тех пор, пока не было заменено другим, которое - сформировавшись в религиозном опыте элиты - утвердилось как более совершенное и более утешительное. «Божественная форма» Яхве возобладала над «божественной формой» Баала. Первый являл сакральное более совершенным образом, чем второй; он освящал жизнь, держа в узде стихийные силы, буйство которых было свойственно культу Баала; он являл такой образ духовности, в котором жизнь и судьба человека обретали новую ценность. В то же время он предоставлял возможность более богатого религиозного опыта общения с богом - одновременно и более «чистого», и более полного. В конечном счете иерофания Яхве одержала победу. Представляя собой универсалистскую модальность сакрального, она по самой своей природе оказалась более открытой другим культурам и стала, через посредство христианства, мировой религиозной ценностью. Мы можем, таким образом, сделать вывод, что некоторые иерофании (ритуалы, культы, божественные формы, символы и т.д.) являются или становятся мультивалентными или универсалистскими; другие же остаются местными или связанными с ограниченным историческим периодом; закрытые для других культур, они погружаются в забвение в ходе истории того самого общества, где они возникли.
Очерки сравнительного религиоведения Элиаде Мирча
1. «САКРАЛЬНОЕ» И «ПРОФАННОЕ»
1. «САКРАЛЬНОЕ» И «ПРОФАННОЕ»
Все предпринятые до сих пор попытки дать определение феномена религиозного имеют между собой нечто общее: каждое из этих определений по–своему противополагает друг другу сакральное и религиозную жизнь, с одной стороны, и профанное и мирскую жизнь - с другой. Всякий раз, однако, когда мы пытаемся очертить границы понятия сакрального, мы сталкиваемся с трудностями как теоретическими, так и практическими. Ибо раньше, чем пытаться определить феномен религиозного, необходимо обсудить факты религиозного, прежде всего и по преимуществу те факты, что являют себя «в чистом виде» - те, иначе говоря, которые «просты» и, возможно, более близки к своему источнику. К несчастью, такого рода фактов мы не находим нигде - ни в обществах, историю которых мы знаем, ни у «примитивных» народов, не охваченных современной цивилизацией. Практически везде мы сталкиваемся со сложными религиозными явлениями, предполагающими длительную историческую эволюцию.
Далее, значительные практические трудности встают и на пути сбора эмпирического материала. Тому есть две причины: 1) даже если удовлетвориться изучением одной религии, жизни одного человека едва ли хватит, чтобы завершить исследование; 2) если же поставить своей целью сравнительное исследование религий, то для этого будет недостаточно и нескольких жизней. Между тем, нас?то интересует как раз сравнительное исследование, ибо только оно дает возможность проследить как меняющуюся морфологию сакрального, так и его историческое развитие. Предпринимая такое исследование, мы поэтому вынуждены выбрать лишь некоторые религии из тех, которые зафиксированы историей или открыты этнологией, и к тому же лишь отдельные аспекты или этапы эволюции этих религий.
Этот выбор, даже если ограничить его наиболее типичными проявлениями, отнюдь не прост. В самом деле, для того чтобы очертить границы сакрального и дать ему определение, мы должны располагать достаточным количеством проявлений сакрального, «сакральных фактов». Разнообразие этих «сакральных фактов», будучи с самого начала источником затруднений, постепенно становится парализующим. Ведь речь идет о ритуалах, мифах, божественных образах, священных и почитаемых предметах, символах, космологиях, теологуменах, людях, получивших посвящение, животных и растениях, священных местах и многом другом. Притом каждая из этих категорий имеет свою, богатую и разнообразную морфологию. Мы, таким образом, оказываемся перед лицом необычайно обширного и разнородного фактического материала, в котором меланезийский космогонический миф или брахманистское жертвоприношение имеют не больше прав на внимание исследователя, чем мистические тексты святой Терезы или Нитирэна, австралийский тотем, примитивный ритуал инициации, символика храма Боробудур, ритуальное одеяние и пляска сибирского шамана, повсеместно встречающиеся священные камни, сельскохозяйственные обряды, мифы и ритуалы, связанные с культом Великой Богини, интронизация монарха в архаических обществах или суеверия, связанные с драгоценными камнями, и т. д. и т. п. Каждый из этих фактов может рассматриваться как иерофания в той мере, в какой он присущим ему образом выражает некоторую модальность сакрального и некоторый момент его истории, иначе сказать, одну из бесчисленных разновидностей пережитого или переживаемого человеком опыта сакрального. Каждый из них драгоценен для нас, будучи источником двоякого знания: как иерофания, он раскрывает нам некоторую модальность сакрального ; как историческое событие, он выявляет одну из ситуаций , в которые ставит человека его приобщение к сакральному. Вот, к примеру, ведический текст, обращенный к умершему: «Ползи к Матери–Земле! Да спасет она тебя из небытия!» Этот текст открывает нам структуру теллурической сакральности: Земля рассматривается как мать, Tellus Mater . Но в то же время он показывает определенный момент в истории индийских религий, момент, когда эта Tellus Mater обрела качество - в сознании, по крайней мере, некоторой группы людей - защитницы от уничтожения, качество, которое позднее было утрачено под влиянием реформы, связанной с Упанишадами и проповедями Будды.
Возвращаясь к тому, с чего мы начали, следует сказать, что все категории фактов (мифы, ритуалы, божества, суеверия и т. д.) равно значимы для нас, если мы хотим понимать феномен религиозного. А такое понимание всегда осуществляется в связи с историей в силу того простого обстоятельства, что всякий раз, когда мы имеем дело с иерофанией, мы имеем дело с историческим фактом. Сакральное являет себя нам всегда в определенной исторической ситуации. Мистический опыт, даже самый интимный и трансцендентный, испытывает влияние обстоятельств своего времени. Еврейские пророки многим обязаны тем конкретным историческим событиям, которые служили оправданием и подтверждением их проповеди, равно как и всей религиозной истории Израиля, позволившей им выразить свой опыт в слове. В качестве исторического феномена - не в качестве личного опыта - нигилизм и онтологизм некоторых мистиков, принадлежавших традиции Махаяны, был бы невозможен без умозрения Упанишад, без эволюции санскрита и т. д. Мы вовсе не хотим этим сказать, что всякая иерофания или всякий религиозный опыт представляет собой уникальный, не допускающий повторения момент духовной истории. Величайшие духовные события подобны друг другу не только содержанием, но часто и формой выражения. Рудольф Отто обнаружил поразительные моменты сходства в словаре и формулировках между Мейстером Экхартом и Шанкарой.
Тот факт, что иерофания всегда исторична (т. е. что она всегда имеет место в определенных обстоятельствах), не исключает для нее возможности быть универсальной. Некоторые иерофании имеют локальное значение, но существуют и такие, которые имеют или приобретают универсальную значимость. Индийцы, к примеру, поклоняются дереву, именуемому Ашваттха ; манифестация сакрального в этом именно виде растения действительна для них одних, ибо для них одних Ашваттха есть иерофания, а не просто дерево . Следовательно, эта иерофания носит не только исторический (что свойственно всякой иерофании), но и локальный характер. Между тем индийцам известен также и символ Космического дерева (Axis Mundi - ось Мира), а эта мифосимволическая иерофания является универсальной, так как Космические деревья встречаются во всех древних цивилизациях. Следует уточнить, что Ашваттха почитается в той мере, в какой это дерево воплощает в себе сакральность непрерывно возрождающейся Вселенной; иначе говоря, оно служит объектом поклонения постольку, поскольку воплощает в себе или символизирует Вселенную, представляемую Космическими деревьями всех мифологий (ср. § 99). Но при том, что символическое значение Ашваттхи таково же, что и у Космического дерева, данная иерофания, претворяющая растительный вид в сакральное дерево, не действительна ни для кого, кроме членов индийского общества.
Можно привести еще один пример - на этот раз пример иерофании, оставшейся в прошлом народа, в среде которого она имела место. Семиты на одном из этапов своей истории поклонялись божественной супружеской паре - Богу бури и плодородия (f?condit? ) Баалу и Богине плодородия (fertilit? ), особенно аграрного плодородия, Белит. Еврейские пророки считали эти культы святотатственными. С их точки зрения - т. е. с точки зрения семитов, которые в результате Моисеевых реформ пришли к более возвышенным, более чистым и более цельным представлениям о божестве, - эта критика была вполне справедливой. И все же древнесемитский культ Баала и Белит - это тоже иерофания; в нем раскрываются - пусть в гротескно преувеличенных, чудовищных формах - сакральный характер органической жизни, стихийные силы крови, сексуальности и плодородия. Это Откровение сохраняло свое значение если не тысячелетиями, то, по крайней мере, в течение многих столетий. Оно продолжало восприниматься в качестве иерофании до тех пор, пока не было заменено другим, которое - сформировавшись в религиозном опыте элиты - утвердилось как более совершенное и более утешительное. «Божественная форма» Яхве возобладала над «божественной формой» Баала. Первый являл сакральное более совершенным образом, чем второй; он освящал жизнь, держа в узде стихийные силы, буйство которых было свойственно культу Баала; он являл такой образ духовности, в котором жизнь и судьба человека обретали новую ценность. В то же время он предоставлял возможность более богатого религиозного опыта общения с богом - одновременно и более «чистого», и более полного. В конечном счете иерофания Яхве одержала победу. Представляя собой универсалистскую модальность сакрального, она по самой своей природе оказалась более открытой другим культурам и стала, через посредство христианства, мировой религиозной ценностью. Мы можем, таким образом, сделать вывод, что некоторые иерофании (ритуалы, культы, божественные формы, символы и т. д.) являются или становятся мультивалентными или универсалистскими; другие же остаются местными или связанными с ограниченным историческим периодом; закрытые для других культур, они погружаются в забвение в ходе истории того самого общества, где они возникли. автора Мартынов Владимир Иванович
Зона opus posth и новое сакральное пространство - вместо послесловия Уже сам факт публикации вышеприведенной таблицы является весьма симптоматичным, ибо то, что картина реальности, запечатленная в ней, обрела возможность быть увиденной, свидетельствует о том, что мы вышли
Из книги Очерки сравнительного религиоведения автора Элиаде МирчаГлава XI САКРАЛЬНОЕ ВРЕМЯ И МИФ О ВЕЧНОМ ВОЗОБНОВЛЕНИИ 147. РАЗНОРОДНОСТЬ ВРЕМЕНИ Проблема, к рассмотрению которой мы приступаем в этой главе, одна из наиболее трудных в религиозной феноменологии. И трудность заключается не в том, что магико–религиозное и профанное время
Распространенным критерием для определения религии является наличие оппозиции (или дихотомии) "сакральное – профанное". Эта идея восходит к трудам Макса Вебера и Эмиля Дюркгейма , но широкое распространение в религиоведении она получила благодаря работам Мирчи Элиаде . Сакральностью может быть наделено любое существо, любая часть природы или же природа в целом. Учения, декларирующие тотальную сакральность существования, тем не менее не лишены данной дихотомии на бытовом или практическом уровне. Без понятия сакрального ни одной религии быть не может. Само понятие сакрального бессмысленно без соотнесения с чем-то отличным от него, оно обладает содержательностью только относительно понятия профанного, которое является его смысловым антонимом. Итак, для любой религии характерен дуализм "сакральное – профанное".
Этот критерий имеет ряд недостатков:
1. Буддизм Махаяны декларирует тождество нирваны (сакральное) и сансары (профаническое существование), причем сама сансара оказывается плодом неведения, фундаментального или трансцендентального заблуждения, членящего единую и недвойственную реальность. Интуитивное переживание этой недвойственности оценивается как просветление или пробуждение.
2. В буддийской традиции Ваджраяны даже подношения Будде часто совершаются не цветами или иными благообразными предметами, а отбросами и нечистотами – для более демонстративного выражения идеи недихотомичности реальности и иллюзорности оппозиций типа "прекрасное – безобразное", "священное – профаническое" и т.д. В рамках этой тантрической традиции буддизма сложилась традиция так называемых махасиддхов (великих совершенных), которые стирали грань между сакральным и профанным, профанируя сакральное. Махасиддхи принципиально противопоставляли свой образ жизни образу жизни не только монахов, но и благочестивых мирян, вызывающе нарушая нормы буддийской морали. Они могли жить вместе с париями (бомжами), есть не просто мясо, а тухлое мясо, пьянствовать, посещать дома терпимости и тем не менее слыли великими святыми и чудотворцами. Внешне такое девиантное поведение несколько роднит их с юродивыми (в христианстве). Но для юродивого это идея кенозиса, "рабьего зрака Сына Божия", он как бы руководствуется евангельским текстом, где сказано о том, что получающие награду на земле, уже не получают ее на небесах. Для махасиддха же основанием его поведения является прочувствованное признание принципиальной недуальности, недихотомичности и неиерархичности реальности.
3. Близкие идеи существуют и в рамках брахманско-индуистской традиции (адвайта-веданта).
4. Интересно также, что именно недихотомичное видение реальности, снятие оппозиции "сакральное – профанное" вообще рассматривается в качестве религиозного идеала не только в индийских религиозных традициях. Данная установка присутствует и в христианстве, и в исламе.
Из всего сказанного выше следует, что наличие дихотомии "сакральное – профанное" никоим образом не может считаться определяющим признаком религии.
Религия как вера в Бога
Существуют определения, отождествляющие религию с верой в Бога (богов). Известно, что существуют учения, единогласно относимые к религиям, в которых подобная вера отсутствует. Иногда их называют "атеистическими" (т.е. "безбожными") религиями. Но т.к. в современных языках слово "атеизм" означает безрелигиозность, а не безбожие, данная характеристика вряд ли уместна, поэтому религии такого типа лучше называть нетеистическими, какими являются буддизм, джайнизм и даосизм. Что касается Китая, то даже и в самом китайском языке отсутствует слово "бог", на что обратил внимание еще А.Шопенгауэр.
В буддизме и джайнизме так называемые божества просто вид живых существ, подверженных заблуждениям, страстям, рождениям и смертям. Обе религии отрицают существование единого Бога, творца и промыслителя, считая веру в него серьезным заблуждением.
Таким образом, наличие веры в Бога или богов также не может считаться сущностным признаком религии. Этот критерий вполне европоцентричен для объективной оценки феномена религии. Вера в Бога, естественная основа для иудео-христианских религиозных традиций, но не применима для характеристики как древних (первобытных), так и для некоторых развитых религий.
Сакральное и профанное в традиционной культуре
Л. Н. Воеводина
В статье рассматривается генезис религиозных представлений в архаических культурах, которые связаны с формированием оппозиции «сакральное» и «профанное». Анализируется концепция Э. Дюркгейма об амбивалентности сакрального, связь сакрального и профанного с коллективными и индивидуальными модусами бытия человека. Показывается, что Дюркгейм исходил из парадигмаль-ной установки о превалировании коллективного опыта над индивидуальным, укорененным в повседневности. Если древний миф представлял собой репрезентацию сакрального, являл род эпифании, встречи человека со священными нуминозными силами, осознавался как некая трансценденция, то в современном мире миф выступает как ложная форма. Он сконструирован из идей и элементов современной цивилизации, инструментален и профанен, в отличие от мифов-прафеноменов, несущих большой сакральный заряд, магическую притягательность и смертельную угрозу одновременно. В одной из своих ипостасей современный миф воспринимается как часть идеологической системы общества.
Ключевые слова-, происхождение религии, сакральное, профанное, коллективное, индивидуальное, миф, традиционная культура.
the sacred and the profane in the TRADITIONAL culture
The article discusses the Genesis of religious beliefs and archaic cultures that are associated with the formation of the opposition "sacred" and "profane". Analyzes the concept of E. Durkheim about the ambivalence of the sacred, the sacred and profane relationship with collective and individual modes of being human. It is shown that Durkheim came from a paradigmatic position on the prevalence of collective experience over the individual, rooted in everyday life. If the myth was a representation of the sacred, was the kind of epifanii, the encounter of man with the sacred numinous forces, was viewed as a kind of transcendence in the modern world, the myth acts as a false form. It is constructed out of the elements and ideas of modern civilization, instrumental and profane, unlike the myths-prefermenu, carrying a great sacred charge, magic attraction and a deadly threat at the same time. In one of his new incarnations of the myth is perceived as part of the ideological system of society.
Keywords: origin of religion, sacred, profane, collective, individual, myth, traditional culture.
Особую роль в процессах семиозиса в традиционном обществе сыграли выделение сакральной сферы и противопоставление её профанной. Семантическая система древности принципиально отличалась от современной, образованной, кроме про-
чего, и путём ряда трансформаций знаковой системы архаики. Вероятно, людям первобытного общества приходилось действовать в условиях отсутствия понятийного аппарата, он возникал постепенно и был образован значительно позже, а сна-
ВОЕВОДИНА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА - доктор философских наук, профессор кафедры теории культуры, этики и эстетики социально-гуманитарного факультета Московского государственного института культуры
VOEVODINA LARISA NIKOLAEVNA - Full Doctor of Philosophy, Professor of Department of the theory of culture, ethics and aesthetics, Faculty of Social Sciences and Humanities, Moscow State Institute of Culture ^g
e-mail: [email protected] © Воеводина Л. Н., 2016
чала существовали лишь образы, но и они отличались от современных тем, что не имели определенной качественной характеристики, невозможной вне понятийного мышления. Поэтому «преисподняя» и «небо» выступали для мифологического мышления как одно и то же, «святой» и «гнусный» обозначались одним словом "sacer" и первоначально не имели этической окрашенности, «молодой» и «старый», «отец» и «сын» являлись смысловыми эквивалентами (О. М. Фрейденберг). Смысловая дифференциация привела, в конце концов, к тому, что смысловые эквиваленты приобрели диаметрально противоположные значения, что произошло не в последнюю очередь путём пространственной поляризации на высокое и низкое, на два космических плана - небесный и земной.
Особый интерес исследователей к изучению сакральной сферы наблюдался в XIX-XX веках, когда был накоплен богатый этнографический материал о жизни традиционных обществ, возрастал интерес к изучению всего иррационального, мистического, бессознательного.
Концепции сакрального активно разрабатывались в это время социологами, историками религии, философами, психоаналитиками. Так, немецкий теолог, религиовед и феноменолог религии Рудольф Отто одним из первых рассматривает понятие «священное» в известной книге «Священное» ("Das Heilige", 1917) . Он отмечает сложность концептуализации первичного значения этого понятия, считая, что оно относится к иррациональному и тайному. Тем не менее он предпринимает попытку рационализации сакрального, полагая, что священное (сакральное) является исходным понятием религии, которое первоначально было вне морали и иррационально. Лишь в развитых религиях появляются представления о добре и зле, творе-
нии мира, завете, эсхатологии и т.п. Отто считал, что важнейшей характеристикой сакрального является амбивалентность, и раскрывал это свойство с помощью понятий «фасцинирующего» и «ужасающего».
Основатель французской школы социологии Эмиль Дюркгейм исследовал сакральное в книге «Элементарные формы религиозной жизни. Тотемическая система в Австралии », а также в других работах. Он пытался понять роль сакрального в жизни тотемистического коллектива с помощью социологического подхода.
Религию Дюркгейм относил к области сакрального и коллективного, а индивидуальное - к профанному. На основе исследования ранних форм религиозной жизни традиционных обществ и системы запретов, связанных с табуированием мёртвых, он создаёт концепцию сакрального, которая оказала большое влияние на последующие исследования. Дюркгейм подверг критике теоретические взгляды Тайлора, который был склонен видеть в мифах и религии лишь некие галлюцинации. Дюркгейм, напротив, склонен был усматривать в них отражение социальной реальности, жизни тотемистического коллектива, его родовой организации.
Он полагал, что все реальные и идеальные вещи распределены в традиционном обществе на два противоположных класса, которые представляют собой абсолютные оппозиции: «Все известные религиозные верования, будь они простые или сложные, содержат одну и ту же общую черту: они предполагают классификацию реальных или идеальных явлений, которые представляют себе люди, на два класса, два противоположных рода, обозначаемых - обычно двумя различными терминами и достаточно хорошо выражаемых словами: светское и священное. Разделение мира на две области, из которых одна включает в себя всё, что священно, другая - всё, что является
светским, - такова отличительная черта религиозного мышления ».
Исследуя образ жизни людей традиционной культуры, Дюркгейм отмечает, что население то разбивается на небольшие группы и занимается определёнными хозяйственными делами, при этом независимо друг от друга, то, наоборот, всё население концентрируется в одном месте на период до нескольких месяцев. В это время начинается интенсивное общение людей друг с другом, в группе наблюдается состояние «чрезвычайного воодушевления», сплочённости и единения. Это состояние приводит к пробуждению в них представлений «о сверхъестественных силах, которые господствуют над ними и воодушевляют их». Эти могущественные сверхъестественные силы, сакральные силы могут обозначаться понятием «маны», магической силы, энергии, которая свободно циркулирует и является источником всех ритуалов.
Коммуникация человека с сакральным объектом или силой проявляется в разного рода культах, эмоционально ярко окрашена, сопровождается душевным подъёмом, одержимостью, иногда - впадением в транс. Осуществляется сакральная коммуникация специально подготовленными для этого людьми, обладающими высоким статусом среди своих соплеменников - жрецами, шаманами, позднее священнослужителями, которые выступают как посредники, медиумы между двумя мирами: сакральным и профанным, передавая другим волю божества, получая указания о том, что следует делать в кризисной, переходной жизненной ситуации.
Дюркгейм считает, что в жизни традиционного общества сакральное выступает как важнейшее социологическое понятие, поскольку создаёт и делает легитимными главные институты традиционного общества, в том числе и религию. Религия соотносится с категорией сакрального,
сакральное её основное понятие, а окружающий мир, с которым сталкивается человек, - с профанным, обычным. Именно в религии, как коллективных, особенно значимых верованиях, символах, идеальных представлениях, Дюркгейм усматривал фундамент социального порядка и «про-фанной» жизни традиционного общества, характер его функционирования и способы взаимодействия людей друг с другом.
Сущность представлений Дюркгейма о сакральном и профанном уходит корнями в коллективные и индивидуальные модусы бытия человека, которые отражают его парадигмальные установки на превалирование коллективного опыта над индивидуальным, укорененным в повседневности. К миру профанного он относит повседневные заботы и нужды человека, которые эмоционально воспринимаются как бесцветные, не вызывающие особого интереса. Это - рутинные обязанности, которые «религиозно индифферентны», но в них нет и ничего негативного. Сакральное, напротив, вызывает возбуждение, сверхинтенсивные чувства человека, которые редки в обыденной жизни.
Он отмечал амбивалентность проявления сакрального, поскольку оно либо служит защитой порядка, жизни и здоровья людей, источником добродетелей, либо становится источником зла и беспорядка, болезней, смертей, кощунства, вызывая у людей ужас и даже отвращение. В традиционных культурах у первобытных народов одна и та же вещь могла восприниматься и как чистая, благая, и как скверная, несущая человеку бедствия и гибель. Эти метаморфозы сакрального осознавались людьми, и, чтобы как-то повлиять на эту данность, люди совершали магические действия, ритуалы, передавали из поколения в поколения мифы, в которых рассказывалось о сакральном. Но всегда сакральное осознавалось как нечто могуществен-
ное, связанное с силой. Сакральное было либо амбивалентно изначально, либо путём превращений меняло свои характеристики по отношению к людям с благого на злое и обратно. Зачастую сакральные предметы изготавливались из «нечистых» вещей.
Дюркгейма в большей степени интересует именно «чистое» сакральное, а не «скверное», рассмотрение которого его не слишком занимает. Таким образом, он недооценивал роль скверного, нечистого сакрального. Д. Куракин отмечает: «Мощь скверного сакрального должна была стать ключом к социологическому объяснению интенсивных разрушений, драматических изменений социального и культурного порядка, ре-сакрализации, ре-социализации и других колоссальных по своему масштабу и стремительных метаморфоз... То, что коллективное бурление, этот исконный механизм коллективной жизни, способен приводить к "тёмной стороне" сакрального и разрушению порядка, долгое время казалось немыслимым не только Дюркгейму и Моссу, но даже Жоржу Батаю, Роже Кайуа и другим мыслителям "Коллежа социологии". Это тем более показательно, что все они признавали существование скверного. Будучи завороженными энергией бурления и его способностью вдохнуть жизнь в находящиеся в кризисе общества, они не смогли увидеть возможности и сценарии, ведущие к тёмной стороне сакрального. В целом внимание к проблеме амбивалентности сакрального у дюркгеймиан-цев в существенной мере определяется тем, склонен ли тот или иной автор к анализу социальных конфликтов или, напротив, фокусирует внимание на социальном консенсусе ».
Образ тотема как покровителя и прародителя данной группы связывает коллектив и противопоставляет его другим, враждебным, что нашло своё отражение в мифах о борьбе тотемов. При этом самому тотему
порой отводится второстепенная роль по сравнению с его символическим заместителем, который представляет собой эмблему группы, как, например, «чуринги» у австралийцев, представлявшие собой деревянные дощечки или плоские камни с изображением различных символов. К самому тотему может быть и амбивалентное отношение. Нередко в традиционных культурах сакральный объект «наказывали», если он не исполнял то, о чём его просили. В качестве примера можно привести обряд наказания и разрушения «идольчиков» в сибирском шаманизме.
Любопытно, что Дюркгейм отмечает конструктивную роль символов для социума и огромное их значение для мифологии. Его теория «коллективных представлений» помогла Юнгу в выработке теории коллективно-бессознательного. Идеи Дюркгейма повлияли на концепцию мифа Л. Леви-Брюля и структуралистов.
Дюркгейм отмечал огромную организующую власть мифа, религии. Иллюзии имеют социальное значение, несмотря на их ложность, они помогают индивиду в процессе социализации, закрепляются в нормах и обычаях и подаются как истинные. В любом случае, они выполняют важную социальную роль, особенно это касается религиозных представлений, которые выполняют такие же функции, как идеология: идеология и религия относятся Дюркгеймом к коллективным представлениям, которые социум вырабатывает и которым индивид не просто слепо подчиняется, но с обретением которых он получает энергию коллектива, моральные силы. Именно верования и священные ритуалы продлевают жизнь общества, выступая элементами интеграции и солидаризации. Коллективные представления, по Дюркгейму, включают в себя различные знания, верования, символы, возникшие в результате синтеза индивидуальных представлений. Сферой их лока-
лизации являются религия, наука, философия, мифология, язык и т.д. Дюркгейм отмечал важность усвоения индивидуальным сознанием (интериоризации) коллективных представлений, только тогда они становятся действительной силой и закрепляются в нормах, ритуалах и т.п.
Коллективные представления интересовали Дюркгейма в связи с их ролью в религиозной жизни, они воплощали в себе коллективное создание образов и идей, которые возникают в моменты глубочайшего религиозного потрясения и напряжения. Коллективные представления носят ярко выраженный интерсубъективный социальный характер и репрезентируют в себе целый комплекс переживаний, идей, страстей, страхов, образов, надолго оставаясь в коллективном сознании людей и определяя коллективное поведение.
Коллективные представления объективизируют социум в целом. Сила и интенсивность коллективных представлений, верований в том, что они поддерживаются социумом. Мифы действительно являются
своеобразной технологией управления обществом. Если древний миф представлял собой презентацию сакрального, являл род эпифании, встречи человека со священными нуминозными силами, осознавался как некая трансценденция, то современный миф выступает как ложная форма. Он сконструирован из идей и элементов современной цивилизации, инструментален и профанен, в отличие от мифов-прафено-менов, несущих большой сакральный заряд, магическую притягательность и смертельную угрозу одновременно. В одной из своих новых ипостасей миф воспринимается как часть идеологической системы общества. Такова метаморфоза мифологических и религиозных структур, позволяющая им существовать в новых формах, а не исчезнуть вместе с архаическим и доин-дустриальным обществами, чьим порождением они были. Человечеству понадобились новые интеллектуальные основания для самосохранения и существования, для легитимизации общества. И этим новым основанием стала идеология.
Примечания
1. Дюркгейм Э. Ценностные и «реальные» суждения // Социологические исследования. 1991. № 2.
2. Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни / пер. с франц. А. Б. Гофмана // Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения: антология / под общ. ред. А. Н. Красникова. Москва: Канон+, 1998.
3. Дюркгейм Э, Мосс М. О некоторых первобытных формах классификации. К исследованию коллективных представлений // Мосс М. Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии / пер. с франц. А. Б. Гофмана. Москва: Восточная литература, 1996. С. 6-73.
4. Куракин Д. Ю. Ускользающее сакральное: проблема амбивалентности сакрального и её значение для «сильной программы» культурсоциологии // Социологическое обозрение. 2011. Т. 10. № 3. С. 41-70.
5. Отто Р. Священное: об иррациональном в идее божественного и его соотношении с рациональным. Санкт-Петербург: Издательство СПбГУ, 2008.
1. Diurkgeim E. Tsennostnye i "real"nye" suzhdeniya . Sociological Studies. 1991, no. 2.
2. Diurkgeim E. Elementarnye formy religioznoi zhizni . In: Krasnikov A. N. Mistika. Religiya. Nauka. Klassiki mirovogo religiovedeniya . Moscow, Publishing house "Kanon+", 1998.
3. Diurkgeim E., Moss M. O nekotorykh pervobytnykh formakh klassifikatsii. K issledovaniyu kollektivnykh predstavlenii . In: Moss M. Obshchestva. Obmen. Lichnost". Trudy po sotsial"noi antropologii . Moscow, Russian Academy of Sciences "Vostochnaya litera-
tura" ("Oriental Literature") Publishers, 1996. Pp. 6-73.
4. Kurakin D. Yu. Uskol"zayushchee sakral"noe: problema ambivalentnosti sakral"nogo i ee znachenie dlia "sil"noi pro-grammy" kul"tursotsiologii . Russian Sociological Review. 2011, vol. 10, no. 3, pp. 41-70.
5. Otto R. Svyashchennoe: ob irratsional"nom v idee bozhestvennogo i ego sootnoshenii s ratsicmal"nym . St. Petersburg, Publishing house of St. Petersburg University (Unipress). 2008.
ультура - экономика - инновации: от постмодернизма к новому рационализму
УДК 330:168.522 Н. В. Львова
Московский государственный институт культуры
В статье рассматривается инновация как феномен культуры, анализируются разные подходы к возникновению, осмыслению и принятию инновации в соотношении экономика - культура. Изучение инновации в современной гуманитарной науке нередко носит эмпирический характер и не выходит на методологический уровень. В статье рассматриваются разные подходы к изучению инновационного процесса. Описывается сущность постмодернистского подхода, раскрывается преимущество нового реализма. Отмечается, что для нового рационализма характерен отказ от установки на метафизику новшества. Акцент делается на изначальную взаимопринадлежность субъекта и объекта инновационного процесса. Языку описания инноваций в новом рационализме не отводится роль исключительно промежуточного места между мышлением и реальным миром. Установка нового реализма выражается в многократной взаимосвязи культуры - экономики - инновации. Она носит генетически функциональный характер и воспроизводит универсальную связь целого и части. В традиционной экономике связь экономических новшеств с культурой имеет прямой характер, а в современной экономике возникает эффект непрямой связи. А это значит, что инновации, возникшие в экономике, влияют на образ жизни, на ценностные ориентации общества, и это уже фиксируется в культурных нормах, ориентациях.
Ключевые слова: инновация, постмодернизм, классический рационализм, новый рационализм, культура.
Moscow State Institute of Culture, Ministry of Culture of the Russian Federation (Minkultury), Bibliotechnaya str., 7, 141406, Khimki city, Moscow region, Russian Federation
culture - economy - innovation:
from postmodernism to the new rationalism
The article discusses innovation as a phenomenon culture, and analyzed different approaches to understanding the emergence and adoption of innovation in relation to the economy culture. The study of innovation in the modern humanitarian science is often empirical and does not go on the methodological level. The article deals with different approaches to the study of the innovation process. It describes the essence of the postmodern approach, that brings the innovation to a set of capabilities and identifies universal scheme - methodology. The article reveals the advantages of the new realism, offering a historical typology of innovations, as well as the expectations of cultural horizons and preferences of consumers.
ЛЬВОВА НЕЛЛИ ВАЛЕНТИНОВНА - аспирантка кафедры культурологии и международного культурного сотрудничества социально-гуманитарного факультета Московского государственного института культуры
LVOVA NELLI VALENTINOVNA - doctoral student of Department of cultural studies and international 44 cultural cooperation, Faculty of Social Studies and Humanities, Moscow State Institute of Culture
e-mail: [email protected] © Львова Н. В., 2016